Биологи вычислили генетические корни речи человека
 Как так получилось, что мы, люди, можем говорить, а наши довольно-таки близкие родственники шимпанзе – нет? Американские специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого попытались разобраться, что стало истинной причиной столь критического отличия. Так ли важно развитие мозга с годами или же за всё отвечают наши гены?
Как так получилось, что мы, люди, можем говорить, а наши довольно-таки близкие родственники шимпанзе – нет? Американские специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого попытались разобраться, что стало истинной причиной столь критического отличия. Так ли важно развитие мозга с годами или же за всё отвечают наши гены?
 Как так получилось, что мы, люди, можем говорить, а наши довольно-таки близкие родственники шимпанзе – нет? Американские специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого попытались разобраться, что стало истинной причиной столь критического отличия. Так ли важно развитие мозга с годами или же за всё отвечают наши гены?
Как так получилось, что мы, люди, можем говорить, а наши довольно-таки близкие родственники шимпанзе – нет? Американские специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого попытались разобраться, что стало истинной причиной столь критического отличия. Так ли важно развитие мозга с годами или же за всё отвечают наши гены?
Вербальное общение людей между собой считается одной из основных отличительных черт человека, отделяющих его от всего остального мира животных. Пусть эта граница условна и те или иные проявления речи (равно как и осознания, восприятия произносимых и слышимых звуков) у животных всё же имеются. Но неоспоримый факт, что до уровня человека они не дотягивают.
В чём заключается уникальность Homo sapiens, решили доподлинно выяснить генетики из университетов Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) и Эмори (Emory University). Они предположили, что «виной» тому наши гены. Впрочем, учёные в этом были, конечно же, далеко не первыми, но данная группа специалистов впервые провела столь обширное исследование генетических основ появления речи у людей.

![]()
Не исключено, что для столь радикального различия в речевых возможностях человека и шимпанзе достаточно было переставить в «гене речи» всего две аминокислоты. Однако объяснить абсолютно всю разницу между видами однопроцентным отличием их ДНК было гораздо сложнее.
Последнее было установлено группой немецких учёных в 2002 году. Биологи тогда обнаружили, что у шимпанзе белки, кодируемые версией этого гена, имеют некоторые отличия от человеческих. Это может означать, что у людей FOXP2 функционирует по-другому. Отсюда и уникальные лингвистические способности.
Ещё один шаг к пониманию происходящих процессов сделали в нынешнем году генетики из института эволюционной антропологии Макса Планка (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie). Они внедрили человеческую версию гена в ДНК мыши.
Конечно, грызуны от этого не заговорили по-человечески: всё-таки способность к речи — навык комплексный. Но проведённые тогда исследования показали, что вокализация животных изменилась. Кроме того, в отделах мозга мышей (тех, что связаны с речью у людей) нейроны изменили своё строение и активность. А это уже что-то!

Более детальным исследованием занялась группа учёных под руководством Женевьевы Конопки (Genevieve Konopka) и Дэниела Гешвинда (Daniel Geschwind) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Биологи вырастили в чашках Петри колонии клеток мозга, у которых отсутствовал ген FOXP2.
Затем одной части клеток была внедрена человеческая версия гена, а второй — от шимпанзе. После этого специалисты проследили за экспрессией генов, процессом перевода информации ДНК в работающие белки клетки и зарегистрировали, на каких генах и как отразились эти изменения.
В своей статье в журнале Nature учёные пишут, что из сотен подвластных FOXP2 генов удалось вычленить 116, которые реагировали на активацию человеческой версии не так, как на ген, взятый у обезьян. «Определив состав этой группы, мы заполучили в свои руки набор инструментов, позволяющих влиять на человеческую речь на молекулярном уровне», — заявляет Конопка.
Эта подборка генов, скорее всего, тоже участвовала в эволюции речи и языка, так как многие её составляющие контролируют развитие мозга или же связаны с познавательными способностями. Часть генов определяет появление и контролирует движение тканей лица и гортани (которые, как известно, активно участвуют в артикуляции).

Предварительные исследования Гешвинда эволюции тех самых 116 генов показали, что у них была примерно одна и та же история. «Возможно, они изменялись все вместе, как бы в связке», — рассуждает учёный.
Дэниел также отмечает, что, несмотря на доказанную важность FOXP2, он не стал бы называть его «геном речи». Возможно, FOXP2 – лишь часть некой группы, или же он не является первым звеном цепи (его работой также управляет какая-то неизвестная доселе субстанция), поясняет биолог.
Гешвинд говорит об этом не просто так. Его группа провела второй эксперимент: сравнила активацию генов во взрослых тканях мозга человека и шимпанзе. Оказалось, что существует частичное совпадение в работе тех генов, активность которых отличалась в мозге людей, и тех, что по-другому контролировались человеческой версией FOXP2.
Пока рано делать какие-то выводы, но велика вероятность, что большая часть различий в мозге Homo sapiens и шимпанзе (по языковой линии) объясняется лишь двумя небольшими изменениями в одном гене. «Если это правда, было бы просто невероятно», — говорит Вольфганг Энард (Wolfgang Enard) из института эволюционной антропологии Макса Планка. (От себя добавим, что это снова подчеркнёт плавность перехода способностей от шимпанзе к человеку.)
«Эта работа – начальная точка, основа всех будущих молекулярных исследований, посвящённых изучению эволюции языка», — добавляет нейробиолог Пашко Ракич (Paško Rakić) из Йеля.
![]()
![]()
«Ключевым является вопрос не как, а зачем появился язык, – полагает Дерек Бикертон (Derek Bickerton), профессор лингвистики Гавайского университета. – Мы начали говорить и общаться не автоматически. Если другие животные спокойно обходятся без речи, значит, она им просто не нужна. У нашего же вида была такая необходимость». На фото обложка книги Дерека «Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей» (Adams Tongue: How Humans Made Language, How Language Made Humans).![]()
Прокомментировала нынешнюю работу и профессор Фаранех Варгха-Кхадем (Faraneh Vargha-Khadem) из университетского колледжа Лондона. Она занимается нарушениями речи пациентов, обусловленными генетическими отклонениями (и в активности FOXP2 в частности).
Профессор соглашается с выводами нынешней научной группы и отмечает, что у её больных часто встречается искривлённая форма нижней части лица (что ещё раз подтверждает: влияние FOXP2 – многогранное). Возможно, шимпанзе не могут говорить из-за тех же физических отклонений. Человек не мог бы танцевать, не будь у него ног, сравнивает Варгха-Кхадем.
Да, никто из наших братьев меньших, включая столь близких нам шимпанзе, не может общаться так же осмысленно и полноценно, но при этом лошади, к примеру, используют некое подобие слов, обезьяны вроде бы понимают грамматику и различают голоса, а сурикаты – интонации сородичей. Может, они и облекли бы свои мысли в слова, но у них нет соответствующих генетических предпосылок.
Фаранех поддерживает Дэниела и в вопросе комплексного подхода к развитию речи у людей. Не стоит концентрироваться лишь на одном гене и его многочисленных подопечных, считает она.
Кроме того, Варгха-Кхадем предполагает, что FOXP2 дал человеку лишь физическую возможность заговорить, но это не объясняет, как абстрактные идеи материализовались в древнем человеческом мозгу в слова, как появились высшие познавательные навыки. И с этим ещё предстоит разбираться.
Впрочем, и собственно с произношением учёным работать ещё очень долго. Ведь если вдуматься, «движение всех тех мускулов, что ответственны за произношение, – это тоже маленькое чудо», – говорит Варгха-Кхадем. Дабы воспроизвести последовательности звуков так, чтобы они были понятны слушателю, нужно тоже пройти очень долгий путь развития.
Каких-то особенных, невероятных преимуществ у человека пока обнаружено не было. Может, некоторые животные уже двигаются по этому пути, постепенно и незаметно догоняя людей?
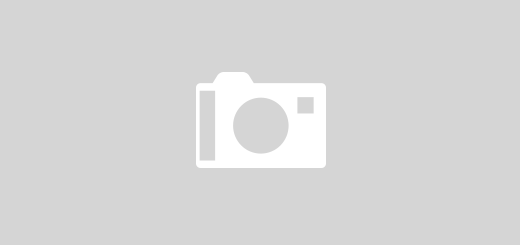
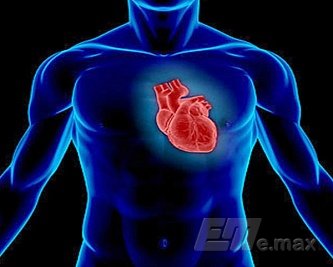
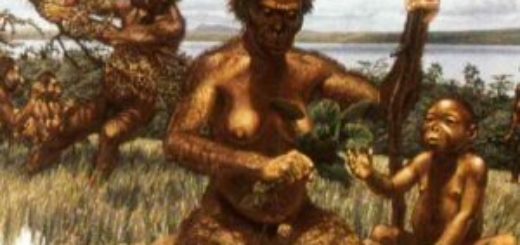


Свежие комментарии